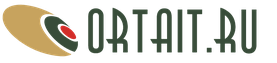Динамика миграции рабочей силы. Динамика международной миграции рабочей силы на современном этапе
Тема: Динамика международной миграции рабочей силы на современном этапе
Введение 3
Заключение 16
Введение
Массовая миграция стала одним из характерных явлений жизни мирового сообщества второй половины ХХ века. Международная (внешняя) миграция существует в разных формах: трудовой, семейной, рекреационной, туристической и др.
Проблемы миграции затрагивают почти все страны мира. Причинами масштабов миграции являются как экономические, так и политические основания.
Все страны мира в различной степени втянуты в международную трудовую миграцию. Основная проблема, которая стоит перед государствами мира - как обеспечить свое участие в международном трудовом обмене. Степень участия стран мира в международном трудовом обмене различна и зависит от основных экономических параметров их развития в современных условиях. Участие России в этом мировом процессе неизбежно. Введение типов миграционной политики показало, что страны мира ведут политику, обусловленную их положением в мировых миграционных потоках.
Миграция оказывает существенное влияние на социально–экономическое и демографическое развитие практически всех стран, участвующих в этом процессе.
На современном этапе проблема международной миграции рабочей силы очень актуальна, потому что у многих есть возможность беспрепятственного въезда на территорию иностранных государств. По большей части люди выезжают на территорию другой страны в попытках найти более высокооплачиваемую работу. Активно происходящий во всем мире процесс интернационализации производства сопровождается интернационализацией рабочей силы. Трудовая миграция стала частью международных экономических отношений. Миграционные потоки устремляются из одних стран в другие. Порождая определенные проблемы, трудовая миграция обеспечивает несомненные преимущества странам, принимающим рабочую силу и поставляющим ее.
Определить сущность международной миграции рабочей силы;
Выяснить причины международной миграции рабочей силы и рассмотреть ее виды;
Изучить основные направления международной миграции рабочей силы;
Изучить масштабы и динамику международной миграции рабочей силы;
Определить последствия международной миграции рабочей силы.
Теоретической базой для написания контрольной работы послужили учебники и учебные пособия современных российских авторов, посвященные проблемам мировой экономики.
1. Сущность международной миграции рабочей силы
Международное разделение труда как высшая ступень развития общественного территориального разделения труда между странами, предусматривающая устойчивую концентрацию производства определенной продукции в отдельных странах, предусматривает наличие в разных странах трудовых ресурсов различного объема и квалификационного состава. Широкая трактовка международного разделения труда как обособления отдельных видов человеческой деятельности необязательно подразумевает его последующую кооперацию – основанный на международном разделении труда устойчивый обмен между странами продуктами, производимыми ими с наибольшей экономической эффективностью. Но если такая кооперация осуществляется, то происходить она может в двух формах: международного обмена товарами (международной торговли), произведенными на основе разделения труда, либо на основе межгосударственного перемещения самого труда – международной трудовой миграции.
Международная миграция рабочей силы представляет собой перемещение рабочей силы из одной страны в другую в качестве товара.
Таким образом, в результате международной миграции трудовых ресурсов за рубеж перемещается товар особого свойства – рабочая сила. Его принципиальное отличие от других товаров заключается в том, что сама рабочая сила является фактором производства других товаров. В условиях относительной избыточности трудовых ресурсов во многих странах вывоз рабочей силы помогает снизить безработицу, обеспечить приток денежных поступлений из-за рубежа. Но, с другой стороны, отлив высококвалифицированной рабочей силы приводит к снижению технологического потенциала экспортирующих стран, их общего научного и культурного уровня.
Наблюдающаяся в последние десятилетия интенсификация процессов миграции выражается как в количественных показателях, так и в качественных: изменяются формы и направления передвижения трудовых потоков.
Одним из проявлений интернационализации и демократизации хозяйственной и социально-культурной жизни человечества, а также последствий острых межнациональных противоречий, прямых столкновений между странами и народами, чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий являются крупномасштабные внутристрановые и межстрановые перемещения населения и трудовых ресурсов в разных формах. Это – добровольные мигранты, пользующиеся правами и возможностями, предоставленными им мировой цивилизацией и международными рынками труда для выбора места жительства и работы. Это – беженцы и вынужденные мигранты, покидающие отчий кров не по своей воле, а под давлением «обстоятельств».
Мировое сообщество, еще недавно не ощущавшее непосредственно размеры, особенности и последствия миграционных процессов на международном уровне, столкнулось с необходимостью координации усилий многих стран по разрешению острых ситуаций и коллективному регулированию миграционных потоков.
Международная миграция рабочей силы возникла многие столетия назад и за прошедшее с тех пор время претерпела серьезные изменения. Наиболее активная теоретическая разработка проблем международной миграции началась с конца 60-х годов в рамках моделей экономического роста. Их основная идея заключается в том, что международное перемещение рабочей силы, как одного из факторов производства, оказывает влияние на темпы экономического роста, ее причиной являются межстрановые различия в уровне оплаты труда.
2. Причины и виды международной миграции рабочей силы
Среди важнейших побудительных мотивов и причин международной миграции трудовых ресурсов находятся различные факторы экономического и неэкономического характера.
К причинам экономического характера следует отнести следующие:
различия в уровне экономического и, в частности, промышленного развития отдельных стран (как свидетельствует практический опыт, рабочая сила мигрирует в основном из стран с низким уровнем жизни в страны с более высоким уровнем);
наличие национальных различий в размерах заработной платы;
существование органической безработицы в некоторых странах и, прежде всего, в слабо развитых;
международное движение капитала и функционирование международных корпораций (как известно, корпорации способствуют соединению рабочей силы с капиталом, осуществляя либо движение рабочей силы к капиталу, либо перемещают свой капитал в регионы с избытком трудовых ресурсов).
Специалисты относят к причинам миграции рабочей силы неэкономического характера политические, национальные, религиозные, расовые, семейные и др.
Происходившее в последнее время заметное развитие средств связи и транспорта, в свою очередь, оказали стимулирующее воздействие на активизацию процессов современной международной трудовой миграции.
Следует иметь однако в виду, что по большей части в процессах международной трудовой миграции принимают участие не служащие, а представители рабочих специальностей.
В зависимости от времени пребывания на территории другой страны (другого региона одной страны) выделяют постоянную, временную и маятниковую миграцию.
Постоянная (долгосрочная) миграция характеризуется численностью прибывших или выбывших на постоянное место жительства. При этом в некоторых странах иностранец начинает считаться иммигрантом (эмигрантом) если он присутствует (или отсутствует) в стране в течение определенного периода времени.
Временная (краткосрочная) миграция представляет собой въезд или выезд, связанный с текущими потребностями без смены гражданства и постоянного места жительства. Однако во многих странах из числа временных мигрантов исключают число сезонных работников (иногда довольно значительное).
Маятниковая миграция является особым видом миграции в зависимости от времени и представляет собой передвижения работающих к месту работы из одного региона в другой и обратно к месту своего жительства в случае, если срок отсутствия лица на постоянном месте составил менее одной недели.
В силу экономических причин основные потоки мигрантов всегда направлялись из стран с низкими личными доходами в страны с более высокими доходами. Вследствие отсутствия достоверной статистики международного переселения и широкого развития нелегальной миграции установить точно иерархичность основных направлений миграции достаточно сложно. Можно выделить следующие страны и регионы, являющиеся точками притяжения мигрантов из других стран.
США, Канада, Австралия. Будучи наиболее экономически развитой страной современного мира, США является основным направлением миграции как низкоквалифицированной, так и высококвалифицированной рабочей силы. Каждый год туда приезжает больше иммигрантов, чем во все остальные страны, вместе взятые. Основные потоки низкоквалифицированной рабочей силы направляются в США из близлежащих латиноамериканских стран – Мексики, стран Карибского бассейна. Высококвалифицированные работники иммигрируют в США практически из всех стран мира, включая Западную Европу, Латинскую Америку, Россию, Индию и т. д. Приток иммигрантов в США и Канаду в середине 90-х годов оценивается в 900 тыс. человек в год. В США легально иммигрируют 740 тыс. человек в год и эмигрируют 160 тыс. человек в год. Чистая иммиграция (миграционное сальдо) составляет 580 тыс. человек.
Западная Европа. Наиболее развитые западноевропейские страны, и, прежде всего страны, входящие в Европейский союз, притягивают рабочую силу из менее развитых западноевропейских стран (Португалии, Мальты, Испании), арабских стран северной Африки и Ближнего Востока. Стран Африки к югу от Сахары, восточноевропейских стран и республик бывшего СССР. Миграции работников из африканских стран – бывших колоний западноевропейских государств способствуют общность языка, исторически сложившиеся традиционные торговые и иные связи. Притоки иммигрантов в Западную Европу в середине 90-х годов оценивались на уровне 180 тыс. человек в год. Более того, в рамках западноевропейской интеграции создан и развивается общий рынок рабочей силы, предполагающий свободу перемещения работников между странами Европейского союза и унификацию трудового законодательства.
Ближний Восток. Нефтедобывающие страны этого региона привлекают дешевую иностранную рабочую силу на тяжелые низкооплачиваемые работы. Рабочие приезжают в основном из соседних арабских стран, а также из Индии, Пакистана, Бангладеш, Кореи, Филиппин. Более половины рабочей силы Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара, Бахрейна, Кувейта и Омана составляют иностранные рабочие.
Краткое описание
Целью настоящей работы является раскрытие основ и масштабов международной миграции рабочей силы на современном этапе.
Для достижения этой цели решаются следующие задачи:
Определить сущность международной миграции рабочей силы;
Выяснить причины международной миграции рабочей силы и рассмотреть ее виды;
Изучить основные направления международной миграции рабочей силы;
Изучить масштабы и динамику международной миграции рабочей силы;
Оглавление
Введение 3
1. Сущность международной миграции рабочей силы 5
2. Причины и виды международной миграции рабочей силы 7
3. Направления международной миграции рабочей силы 9
4. Масштабы и динамика международной миграции рабочей силы 11
5. Последствия международной миграции рабочей силы 14
Заключение 16
Список использованной литературы 17
миграция рабочий валовой трудовой
Со второй половины XX в. наряду с мировыми рынками товаров, услуг и капиталов возникает и взаимодействует с ними международный рынок рабочей силы. Рабочая сила, перемещаясь из одной страны в другую, предлагает себя в качестве товара. Таким образом, осуществляется международная трудовая миграция как форма проявления отношений на мировом рынке труда.
Международная миграция рабочей силы - сложное явление, представляющее собой переселение трудоспособного населения из одних государств в другие сроком более чем на год, вызванное экономическими и иными причинами.
Все перемещения населения относительно каждой территории слагаются из эмиграционных и иммиграционных потоков. Эмиграция - это выбытие за границу, а иммиграция - прибытие из-за границы. Другими словами, международная миграция рабочей силы представляет собой экспорт и импорт лиц наемного труда. Вместе с тем существует и более специфическая форма международной миграции - реэмиграция, т.е. возврат на родину ранее эмигрировавшего населения.
В результате международной миграции трудовых ресурсов за рубеж перемещается товар особого свойства - рабочая сила. Его принципиальное отличие от других товаров заключается в том, что сама рабочая сила является фактором производства других товаров. Страна, экспортирующая рабочую силу, то есть откуда эмигрируют работники, обычно получает своеобразную оплату за такой экспорт в виде переводов обратно на родину части доходов эмигрантов. В условиях относительной избыточности трудовых ресурсов во многих странах вывоз рабочей силы помогает снизить безработицу, обеспечить приток денежных поступлений из-за рубежа. Но, с другой стороны, отлив высококвалифицированной рабочей силы приводит к снижению технологического потенциала экспортирующих стран, их общего научного и культурного уровня.
- * безвозвратная, когда работники выезжают за границу на постоянное место жительства;
- * временно-постоянная -- в данном случае выезд за рубеж осуществляется на достаточно длительное время (от 1 до 10 лет);
- * сезонная -- работники выезжают в зарубежные страны на короткое время (до 1 года) для осуществления трудовых услуг в отраслях, имеющих сезонный характер (например, сельское хозяйство, строительство, рыболовство, курортно-оздоровительная сфера и т. п.). Разновидностью сезонной миграции можно считать и кочевое животноводство, сохранившееся во многих азиатских и африканских странах. К сезонной миграции можно отнести перемещение цыганских таборов, а также паломничество к святым местам (в Иерусалим, Афон, Мекку и т. п.);
- * приграничная, или маятниковая, представляет собой ежедневный приезд граждан, живущих в приграничной полосе одной страны, для работы в другую страну. Данный тип миграции похож на процесс ежедневного приезда работников, живущих в пригородах, для работы в мегаполис;
- * нелегальная -- предполагает нелегальный въезд в страну с последующим устройством на работу, либо законный въезд (например, по туристической путевке, по частному приглашению) с последующим незаконным трудоустройством;
- * вынужденная -- вызывается неэкономическими причинами -- войнами, революциями, политическими преобразованиями (например, распадом государства), стихийными бедствиями, эпидемиями, однако оказывает серьезное воздействие на рынки труда как в стране, из которой выезжает население, так и в принимающем беженцев государстве;
- * межконтинентальная -- означает не просто выезд из страны в страну, но и смену при этом континента проживания и трудоустройства. В некоторых странах (например, Россия, Турция) межконтинентальная миграция может быть разновидностью внутренней миграции;
- * «утечка умов» -- выезд за границу ученых, специалистов, деятелей искусства. Сюда же можно отнести и миграцию спортсменов, хотя для нашей страны данный тип миграции лучше называть не «утечка умов», а «бегство клюшек».
За последние полтора десятилетия страну покинули и работают в США следующие российские экономисты: профессор И. Сегал (Стэн-форд), ассоциированные профессора А. Богомольная (Университет Раиса, Хьюстон), М. Арбатская (университет Эмори (Атланта)), Д. Столяров (Мичиганский университет), ассистенты профессора И. Стрембулаев (Стэнфорд), О. Леухина (университет Северной Каролины), Г. Овчарова (университет Нотр-Дам), И. Копылов (Калифорнийский университет (кампус в Ирвайне)), Г. Борисова (Иель), Е. Краснокутская (Пенсильванский университет), Светлана Боярченко (Техасский университет), Андрей Шевченко (университет Мичиган Стейт), К. Тюрин (университет Индианы), Елена Гольдман (университет Пэйс, Нью-Йорк) и другие. Обязанности лекторов в британских вузах выполняют: А. Сарычев (Лондонская школа экономики) и Татьяна Корниенко (университет Стерлинга), ассистентами профессора Лондонской школы бизнеса являются А. Павлова и И. Макаров.
Международную миграцию рабочей силы можно считать разновидностью горизонтальной социомобильности населения, способом устранить перекосы в структуре национальных рынков труда.
Миграция рабочей силы осложняется «языковым барьером», трудностью адаптации трудовых ресурсов в зарубежных странах.
Причины миграции рабочей силы.
Миграция рабочей силы происходит под воздействием двух групп факторов:
- 1. Неэкономические факторы:
- - войны, которые заставляют людей бежать от военных действий (беженцы);
- - политические и религиозные преследования;
- - стремление открыть или освоить новые пространства (период великих географических открытий демонстрирует мощь таких мотиваций);
- - желание воссоединения семей;
- - природные (стихийные) бедствия.
- 2. Экономических факторов, к которым относятся:
- - различные уровни экономического развития стран, что влечет за собой и различную стоимость рабочей силы;
- - состояние национального рынка труда;
- - структурная перестройка экономики, связанная, например, с переходом бывших социалистических стран к рыночной экономике;
- - научно-технический прогресс, развитие которого сопровождается ростом потребностей в квалифицированной рабочей силе;
- - вывоз капитала, функционирование ТНК, которые способствуют соединению рабочей силы с капиталом, осуществляя либо движение рабочей силы к капиталу, либо перемещая свой капитал в трудоизбыточные регионы.
По данным социологических опросов, основным мотивом выезда является желание заработать, из нематериальных стимулов -- желание повысить свой профессиональный уровень.
Причины экономического характера связаны с неравномерным развитием отдельных стран. Безусловно, более развитая страна создает больше рабочих мест, поэтому в ней легче найти работу. В развитой стране выше жизненный уровень и выше уровень оплаты труда. Поэтому такая экономика способна обеспечить и более оплачиваемую работу. Обладая более высоким научно-техническим потенциалом, она предъявляет спрос на квалифицированную, способную к творчеству рабочую силу. Поэтому квалифицированные кадры перетекают на более развитый рынок.
Перемещение рабочей силы ведет к изменениям в предложении труда.
В принимающей стране будет наблюдаться рост объема предложения. Принято считать, что если страна уже отягощена безработицей, то приток мигрантов будет способствовать ее росту.
Основные особенности, потоки и центры миграции рабочей силы.
Миграция, с одной стороны, обеспечивает перераспределение трудовых ресурсов как фактор производства в соответствии с потребностями стран, позволяет осваивать новые регионы, с другой - ведет к обострению экономических и социальных противоречий, что требует разработки специальных мер как на государственном, так и международном уровне.
На практике можно выделить определенные географические регионы, которые являются местами наиболее массового привлечения иностранных трудящихся. Данные регионы называются центрами притяжения. В этих центрах наблюдаются высокие темпы экономического роста, развитие обрабатывающей промышленности, значительные объемы привлеченного иностранного капитала, а соответственно отмечается высокая потребность в дополнительных трудовых ресурсах.
Как нам известно, основную роль в современном международном движении населения играет трудовая миграция. Масштабы ее постоянно растут, и в этот процесс вовлечены практически все страны. Межстрановая трудовая миграция приняла беспрецедентный характер, становится типичным явлением социально- экономической жизни современного мира. В начале 1993 года насчитывалось около 30 млн. трудящихся- мигрантов. С учетом членов их семей, участников маятниковой миграции (фронтальеров), сезонников, нелегальных иммигрантов общая численность трудовых мигрантов оценивается в четыре- пять раз выше.
Возможность международной миграции рабочей силы создается национальными различиями в заработной плате. Необходимость переселенческих движений наемного труда от страны к стране диктуется неравномерностью образования относительного перенаселения на международной арене. Рабочая сила движется от стран богатых трудовыми ресурсами, к более богатым капиталом странам. Более половины международных мигрантов являются выходцами из развивающихся стран, 2/3 из них находятся в индустриальных странах. Приток новых контингентов мигрантов в эти страны связан с качественными диспропорциями на их рынках труда.
Потоки трудовой миграции в течение длительного периода времени претерпели определенные изменения. В прошлом веке международная миграция была направлена в основном в бедные капиталом колонии, и прежде всего в Северную Америку, Австралию. Массовая иммиграция в отдельных районах мира привела к возникновению и развитию там переселенческих обществ, что придало импульс развитию мировой хозяйственной системы. Перемещение иммигрантов, средств производства и финансовых ресурсов способствовало образованию во второй половине 19- начале 20 в в. группы переселенческих государств, основные направления общественного развития которых определялись европейскими державами. В этот период происходили также значительные перемещения населения из Китая и Индии преимущественно в Юго- Восточную Азию и районы Индийского океана.
Во второй половине прошлого столетия сформировались новые центры притяжения иммигрантов. Эмиграция стала идти из менее развитых в более развитые страны. Самый мощный центр притяжения сложился в Западной Европе, в результате из поставщика эмигрантов она превратилась в центр притяжения рабочей силы. Уже в начале 50-х в странах ЕС насчитывалось около 15 млн. трудящихся- мигрантов и членов их семей. В середине 70-х крупный центр иммиграции сложился в районе Персидского залива, и в начале 90-х иностранцы составляли там 70% рабочей силы. Своеобразным центром притяжения иммигрантов, националистическим по своему характеру, стал Израиль. Его население на 2/3 увеличилось за счет миграционных потоков и в значительной мере (на 1/3) за счет выходцев из Советского Союза. В Латинской Америке центрами притяжения рабочей силы стали Аргентина, Бразилия и Венесуэла с численностью иммигрантов от 5 до 8 млн. человек. В Африке центрами притяжения рабочей силы стали ЮАР и Кот- д Ивуар.
Основными поставщиками рабочей силы в Азии являлись Индия, Пакистан, Филиппины, Малайзия, на Ближнем Востоке - Ливан. Иордания, Турция, в Африке - Марокко, Алжир, Тунис, Гана, Мали, Чад, Гвинея, Мозамбик, в Северной Америке - Мексика, в Европе - Польша, Португалия, Италия, Ирландия. В 90- е годы страны Южной Европы - Греция, Италия, Испания превратились из стран чистой миграции в страны нетто - миграции.
Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что международная миграция рабочей силы -- это перемещение людей через границы определенных территории со сменой постоянного места жительства или возвращением к нему в целях поиска работы.
На практике международная миграция рабочей силы возникала как стихийное явление, но по мере развития процесса начинала подпадать под регулирующие мероприятия государства. Тем не менее, и в настоящее время не изжиты полностью черты стихийности в рассматриваемом процессе.
История современной международной трудовой миграции насчитывает полтора столетия. С середины прошлого века обнаружились довольно многочисленные миграционные потоки из европейских стран в США, особенно в периоды благоприятной экономической конъюнктуры за океаном. В эти годы причинами перемещения рабочей силы могли быть и аграрное перенаселение в некоторых европейских странах, и безработица, и более приемлемые условия работы в США, а также перспективы повышения уровня жизни для многочисленных мигрантов из Европы.
Следующим этапом широкомасштабной эмиграции из разных стран в США следует считать период 20-50-х гг. ХХ столетия. Так, после первой, а затем и второй мировой войны наметились новые миграционные волны: “утечка умов”, то есть устойчивый поток высококвалифицированных специалистов и членов их семей в Северную Америку; потоки беженцев из Венгрии (1956 г.) и из Вьетнама (1974-1975 гг.), а также с Кубы (1980 г.). Но самым крупным потоком в США этого времени стал наплыв рабочей силы из Мексики и стран Карибского бассейна.
Также и в Европе после второй мировой войны (особенно с начала 60-х годов) наблюдались достаточно интенсивные процессы межстрановой миграции рабочей силы. Рабочая сила из Испании, Португалии, Греции, Югославии активно использовалась в экономике промышленно развитых стран Европы. На современном этапе использование иностранной рабочей силы постепенно становится важным элементом нормального функционирования механизма мирового хозяйства.
Согласно официальным данным, в мире насчитывается более 35 млн. трудящихся-мигрантов (в 1960 г. – 3,2 млн.). Если подсчитывать мигрирующую рабочую силу с сопровождающими ее иждивенцами, то численность перемещающихся работников с членами их семей может превышать 100 млн. человек.
Еще по теме 5.2. Динамика международной миграции рабочей силы:
- § 62. Международная миграция рабочей силы и миграционная политика
- 20 МЕЖДУНАРОДНАЯ МИГРАЦИЯ РАБОЧЕЙ СИЛЫ: ПОКАЗАТЕЛИ, МАСШТАБЫ, НАПРАВЛЕНИЯ
Международная миграция в России: динамика, политика, прогноз
Измерение и прогнозирование международной миграции
При попытках измерить масштабы любых демографических событий возникают серьезные проблемы, но они особенно велики при оценках международной миграции. Многократные расхождения в оценках числа въехавших в страну или выехавших из нее встречаются не так уж редко, например, в России. Для измерения смертности и рождаемости широко используют выборочные обследования, но при измерении миграции важен сплошной учет. К сожалению, в большинстве стран он не налажен, причем далеко не везде стремятся исправить положение.
В принципе перепись населения позволяет учесть всех иммигрантов, но этого недостаточно для оценки их потоков: переписи проводят через большие промежутки времени (как правило, раз в десять лет), а миграционные потоки очень изменчивы.
Предельно близкие к действительности оценки международной миграции можно получить по Северной Корее, миграционная привлекательность которой весьма низкая. В странах, где потоки миграции велики, статистически они отражаются недостоверно, хотя пересечение государственных границ развитых стран всегда (за исключением межгосударственных перемещений внутри Шенгенской зоны) документируется. Статистическая обработка въездных документов осуществляется почти во всех странах, однако далеко не везде она включает учет типов визы или целей въезда в страну, а только такая информация позволяет выделить иммигрантов из общей массы въезжающих. Хотя выезд сопровождается выполнением некоторых формальностей (обычно ставят штамп в паспорте), статистический учет выезжающих, как правило, не ведется.
В США статистический учет официально разрешенной иммиграции, основанный на системе виз и пограничном контроле, по независимым оценкам, достаточно достоверен, но государственного статистического учета выездов из страны нет. Таким образом, надежная официальная оценка годовой иммиграции - в настоящее время порядка 1,2 млн. человек - сочетается с отсутствием официальной статистики эмиграции, которая, по косвенным оценкам, составляет около 300 тыс. человек в год. В результате миграционный прирост подчас приравнивают к иммиграции, что, естественно, его завышает. В то же время страна ежегодно принимает большое число недокументированных (нелегальных) мигрантов, причем их численность можно оценить лишь косвенными (и спорными) методами.
В Шенгенской зоне отсутствует контроль за перемещениями граждан, регистры населения ведутся далеко не везде, граждане не всегда ответственно выполняют требования саморегистрации, а национальные регистры не объединены в единую систему. База данных Евростата по миграционному обмену стран Шенгенской зоны с внешним миром, а также миграционному обмену Великобритании намного надежнее и полнее. В России сохранился советский механизм статистического учета международной миграции, позволяющий получать надежные оценки численности и половозрастного состава мигрантов. Россия - одна из немногих стран, для которых можно формулировать гипотезы нетто-миграции на основе эмпирических данных о половозрастной структуре мигрантов.
Если переписи населения и выборочные обследования позволяют, пусть неполно, учесть накопленную численность недокументированных мигрантов, то наладить учет их потоков в принципе невозможно. Косвенные округленные оценки для некоторых стран сопоставимы с численностью документированных мигрантов (США), а иногда превышают ее в разы (Россия) и при этом сильно варьируют. Можно сказать, что для стран с крупными потоками нелегальной иммиграции при формулировании гипотез миграционного прироста в будущем остальные проблемы миграционной статистики окажутся второстепенными.
Международную миграцию трудно измерить, но ее вклад в воспроизводство населения значителен. Если миграционный прирост невелик, его объем и структура не оказывают большого воздействия на динамику численности населения. Если объем внешней миграции сопоставим с естественным приростом населения, она становится главным фактором неопределенности будущего, и вопрос о разумных гипотезах миграционного прироста выходит на первый план. Миграционные предпосылки почти полностью определяют разброс краткосрочных прогнозов и важны для среднесрочных (на 15-25 лет). Это связано с инерционностью естественного воспроизводства населения.
Нельзя рассчитывать на быстрое изменение репродуктивного поведения, определяющего рождаемость, или отношения к собственному здоровью и самосохранению, что отражается в уровне смертности. Динамика числа смертей и рождений в значительной, подчас решающей, мере обусловлена сложившейся половозрастной структурой населения. Отсюда следует, что при отсутствии внешней миграции демографическая динамика в течение предстоящих 5-10 лет будет колебаться в узком диапазоне, предопределенном ответственными демографическими гипотезами. Таковыми мы считаем основанные на анализе мирового опыта и специфики страны. Предположения о повышении в течение 10 лет продолжительности жизни мужчин с нынешних 60 до 75 лет или об удвоении рождаемости безосновательны. В рамках ответственных гипотез разброс показателей динамики населения в перспективе 10-15 лет при условии постоянства миграционных потоков весьма небольшой.
Реальное осуществление однолетнего макроэкономического прогноза можно считать выдающимся достижением, но его редко удается повторить. Пятилетний экономический прогноз вышел из употребления вместе с централизованным планированием. Но для демографического прогнозирования 20-25-летний горизонт стандартный, авторитетные прогнозы на 50 лет каждые два года разрабатывает (пересматривает) ООН. Более того, время от времени предпринимаются серьезные попытки заглянуть в более отдаленное будущее, причем в отличие от футурологических работ они характеризуются простотой гипотез и ясностью результата. Между тем долговременность демографических прогнозов в сочетании с их надежностью достигается не благодаря, а вопреки их миграционной составляющей.
Сама возможность долгосрочных демографических прогнозов обусловлена универсальностью основных тенденций смертности и рождаемости, а миграционные потоки детерминированы конкретными и меняющимися условиями места и времени. В частности, международная миграция очень чувствительна к экономической конъюнктуре и государственной политике. Подчас даже возникает соблазн абсолютизировать законодательное и административное регулирование внешней миграции, однако это заблуждение. "Закручивание гаек" может эффективно уменьшить легальную миграцию, одновременно породив компенсирующий поток нелегальной. Вместе с тем нет оснований полагать, что снятие всех преград для иммиграции непременно приведет к желательному ее увеличению.
Иными словами, миграционные гипотезы по степени своей устойчивости ближе к используемым в экономических прогнозах предположениям о будущей динамике капиталовложений, чем к гипотезам относительно естественного воспроизводства населения. Между тем горизонт демографических прогнозов на порядок превосходит горизонт экономических, которые стремятся учесть одновременное действие многих факторов, поэтому даже в пределах одного года экономические прогнозы чаще опровергаются, чем подтверждаются.
Разработка миграционных гипотез демографического прогноза принципиально отличается от формулирования гипотез смертности и рождаемости, где с учетом прошлых тенденций и объективных предельных уровней показателей можно выработать разумные и относительно жесткие правила экстраполяции. В отношении международной миграции этого сделать нельзя. Строгих методов формулирования гипотез прогноза международной миграции не существует, поскольку обосновать гипотезы в отношении миграционного прироста на срок 20-50 лет можно только на основе неприемлемо шатких футурологических конструкций.
На практике будущий прирост населения страны за счет миграционного обмена с другими странами (нетто-миграция) задается на весь период прогноза на некотором постоянном уровне, который редко обосновывают. Обычно в конкретных методиках исходят из предположения об инерционности трендов. Если в прошлом миграционный прирост был стабильным, считается, что он таковым и останется. Если показатели нетто-миграции сильно варьировали, то ее годовые объемы принято усреднять. Если был резкий взлет или спад, то нередко предполагают быстрый возврат к прежнему или какому-либо промежуточному уровню и последующую стабилизацию. Еще труднее обосновать гипотезу в условиях, когда миграционный прирост в прошлом монотонно менялся. Понятно, что такая тенденция рано или поздно должна прерваться, но неясно, как установить точку перегиба и решить, что за ней должно последовать - стабилизация или изменение знака тренда.
Распространена экстраполяция некоего постоянного уровня нетто-миграции. У этого подхода есть как сторонники, обращающие внимание на отсутствие обоснованных альтернатив, так и противники, апеллирующие к тому, что международной миграции устойчивость в принципе не свойственна. Экстраполяцию постоянной нетто-миграции лучше использовать, если иммиграционные и эмиграционные потоки устойчивы на протяжении длительного периода, как, например, во Франции и США в течение нескольких десятилетий, однако эти примеры скорее нетипичные. Намного чаще наблюдаются изломанность кривой нетто-миграции, отсутствие долговременных трендов. В результате возникает необходимость радикально изменить миграционную гипотезу. Так, составители прогнозов ООН в 2006 и 2008 гг. не располагали информацией о значительном росте после 2000 г. учтенной иммиграции в Россию, их прогнозы основаны на экстрополяции уровня нетто-миграции, многократно заниженного по сравнению с реально наблюдавшимся.
В соответствии с одним из принципов господствующей методологии демографического прогнозирования следует концентрироваться на детальной проработке гипотез рождаемости и смертности, а миграцию, нарушающую логичный механизм прогноза, нужно рассматривать как помеху. Характерно, что в методологических пояснениях к прогнозам ООН ясно и подробно описаны гипотезы рождаемости в различных регионах мира, параметры гипотез смертности в старших возрастных группах и алгоритм оценки пандемии СПИДа, но о международной миграции сказано лишь вскользь. Такой подход адекватен ситуации, когда объем миграции незначителен. Из-за возрастания ее роли в воспроизводстве населения необходимо изменить методологию демографического прогноза: сместить акцент на проработку миграционных гипотез, что расширит диапазон траекторий демографического роста и усложнит обоснование среднего варианта.
Менее распространенным подходом выступают гипотезы типа "если - то". Их используют для иллюстрации предельных воздействий международной миграции на воспроизводство населения. Для такого подхода не требуется обоснование реальными фактами; он, по сути, противоречит принципу демографического прогнозирования, в соответствии с которым численность и половозрастной состав населения рассчитываются исходя из сформировавшейся структуры населения и гипотез в отношении рождаемости, смертности и миграции, а не наоборот. Частный случай такого подхода - целевой прогноз, отвечающий на вопрос: какой миграционный прирост нужен для замещения естественной убыли населения (трудовых ресурсов) или нейтрализации роста демографической нагрузки при данных гипотезах в отношении естественного вопроизводства ?
Для стран с особенно низкой рождаемостью оценки замещения располагаются в диапазоне от значительной до запредельной потребности в дополнительной иммиграции. При этом даже фантастические результаты не менее полезны, чем реалистические, ибо позволяют лучше понять отличия возможного от желательного и оценить баланс вкладов различных компонентов воспроизводства. Например, можно рассчитать коэффициент нетто-миграции, равный по воздействию на численность населения некоторому приросту суммарного коэффициента рождаемости.
Альтернативой целевой гипотезе выступает факторный подход. Однако здесь разумно основываться на самых общих соображениях, не стремясь количественно выразить взаимозависимости, поскольку период действия эмпирически установленных соотношений слишком короткий, а совокупность факторов подвижна. Так, если бы существовал сверхдолгосрочный прогноз экономического развития участвующих в миграционных обменах стран, то в качестве якоря можно было бы использовать эмпирически установленные зависимости: например, при определенном сокращении разрыва в уровне экономического развития стран выезда и въезда эмиграционный поток иссякает. Но даже тогда проблему не удалось бы решить полностью. Во-первых, в таком случае вероятна возвратная миграция и ее следовало бы учесть. Во-вторых, что еще важнее, подобный механизм предполагает реальную свободу международной миграции, что в полной мере наблюдается только в пределах Шенгенской зоны. В других случаях экономические переменные будут больше коррелировать с намерениями мигрировать, чем с их осуществлением, с миграционным потенциалом, чем с его реализацией в миграционных потоках. Кроме того, надежный сверхдолгосрочный экономический прогноз пока невозможен.
Половозрастная структура миграционных потоков оказывает заметное воздействие на население, причем тем более существенное, чем больше соотношение нетто-миграции и естественного воспроизводства населения и чем сильнее структура миграционных потоков отличается от структуры населения. Поэтому ее желательно интегрировать в прогноз. Такая структура нетто-миграции определяется тремя факторами: структурой иммиграционных потоков, структурой эмиграционных потоков и соотношением иммиграции и эмиграции. Для оценки этих параметров нужна статистическая информация, которая имеется не по всем странам, однако для России такие данные по учтенной миграции есть. В принципе для прогноза этого недостаточно, поскольку нет гарантий стабильности структуры в будущем, даже если объемы нетто-миграции не изменятся. Эту проблему можно частично снять при раздельном прогнозировании эмиграционных и иммиграционных потоков, сохраняя прошлые половозрастные структуры, однако реализовать такой подход сложно, поскольку существующие прогнозные алгоритмы настроены на нетто-миграцию.
В модели демографического прогноза потоки положительной нетто-миграции сразу интегрируются в коренное население в том смысле, что прибывшим "при пересечении границы" немедленно приписывают присущие ему режимы смертности и рождаемости. В принципе эта гипотеза уязвима для критики. Теоретически демографический прогноз должен учитывать, что иммигрантам часто свойственны отличные от коренного населения типы смертности и репродуктивного поведения. Исследования показывают, что на Западе рождаемость среди легальных мигрантов из стран Юга существенно выше, чем среди коренного населения, причем в Германии, Нидерландах и Франции разрыв составляет больше одного ребенка на женщину . Более того, рождаемость среди них нередко превышает средние показатели в странах, откуда они приехали , однако существенные различия обычно стираются уже в следующем поколении. Основные миграционные потоки в Россию устремляются из стран с более высоким средним уровнем рождаемости. Фоновый уровень и структура заболеваемости, подверженность рискам смерти представителей коренного населения и субпопуляции иммигрантов различаются, причем нередко значительно. Однако дифференциальная смертность иммигрантов не исследована.
Конечно, правильнее учесть в прогнозе дифференциальную рождаемость и смертность иммигрантов, особенно если различия с коренным населением велики. Однако против этого подхода есть серьезные возражения. Методологические аргументы сводятся к тому, что вряд ли целесообразно наделять условных "чистых мигрантов" специфическим репродуктивным поведением и характеристиками смертности. Чтобы решить эту проблему, надо выделить субпопуляцию иммигрантов, оценить ее демографические характеристики и алгоритм адаптации-сосуществования с коренным населением. Кроме того, сложно найти необходимую статистическую информацию.
Не всегда правомерно приписывать иммигрантам из некоторой страны средний уровень рождаемости, свойственный ей, поскольку эмигрируют, как правило, более образованные люди, которым присущи установки на меньшее число детей, чем представителям других групп населения. Значительная часть легальных мигрантов из ряда южных стран СНГ - в основном городское этнически русское население, рождаемость которого ближе к российской модели, чем титульного населения. В то же время потенциальные эмигранты нередко откладывают рождение детей до лучших времен и осуществляют свои репродуктивные планы уже в стране иммиграции. Нелегальная иммиграция нечасто бывает семейной, а когда на такой шаг решаются семьи, то разумно предположить, что реализацию репродуктивных установок сдерживают неблагоприятные условия, особенно жилищные, ограниченный доступ к медицинской помощи и распространенная атмосфера враждебности и ксенофобии.
Международная миграция в воспроизводстве населения России
Доля иммигрантов в населении России не слишком высокая. По данным ООН, по этому показателю (9% в 2010 г.) она несколько уступает Франции, где иммигранты составляют 11% населения, более чем в 10 раз превосходит Румынию, но в 4 раза отстает от Люксембурга. Вместе с тем роль международной миграции в динамике населения страны в настоящее время особенно велика, потому что в России умирает больше людей, чем рождается. На рисунке 1 показана динамика миграционного прироста населения России.
Рисунок 1. Россия: потоки международной миграции, 1990-2008 гг. (тыс. человек в год)
Источник: Демоскоп Weekly. Приложение: Справочник статистических показателей. Компоненты изменения численности населения России, .
В 1960-е годы естественный прирост населения страны сократился с 2 млн. человек более чем вдвое, затем в течение полутора десятилетий колебался в интервале 600-900 тыс. человек в год, а после 1987 г. стал отрицательным: если бы не иммиграция, население России уже с середины 1990-х годов сокращалось бы ежегодно на 800-900 тыс. человек в год. До середины 1970-х годов имел место незначительный отток населения (главным образом, в Казахстан и Среднюю Азию), затем стала нарастать положительная нетто-миграция с резким всплеском в середине 1990-х годов вследствие массового перемещения русскоязычного населения из стран СНГ и Балтии.
В пиковый 1994 г. миграционный прирост составил 810 тыс. человек. За ним последовал глубокий спад: по данным текущего учета, к концу 1990-х годов миграционный прирост сократился почти втрое, а к 2001 - 2002 гг. упал ниже 80 тыс. человек в год. Между тем, по данным переписи населения 2002 г., совокупный миграционный прирост в 1990-2002 гг. был на 1,8 млн. человек больше, чем по данным текущего учета, причем разрыв оказался особенно велик на пике миграции (160 тыс. человек в 1994 г.) и в низшей точке учтенной миграции (206 тыс. человек в 2001 г.) Начиная с 2004 г. сальдо миграции, по данным текущего учета, стало быстро расти, увеличившись к 2008 г. до 250 тыс. человек, или в 3,5 раза. Эти цифры отражают не столько увеличение физического объема нетто-миграции, сколько сокращение незаконной и рост легальной миграции. В результате восстановился уровень учтенного миграционного прироста - порядка 250 тыс. человек в год (см. рис. 2).

Рисунок 2. Миграционный прирост населения России, 1990-2008 гг. (тыс. человек в год)
Источники: см. рис. 1; Институт демографии ГУ-ВШЭ (сейчас - НИУ ВШЭ).
Широкомасштабная иммиграция не предотвратила, но существенно затормозила депопуляцию России, ибо миграционный прирост в 1991-2008 гг. восполнил половину демографических потерь страны вследствие естественной убыли населения. В конце 2000-х годов иммиграция почти полностью компенсировала отрицательный баланс рождений и смертей, а в 2009 г. перекрыла его: прирост населения на 10,5 тыс. человек был многими (в том числе официальными лицами) неправильно интерпретирован как преодоление демографического кризиса (см. рис. 3).

Рисунок 3. Прирост населения России, 1990-2009 гг. (тыс. человек в год)
Источник: см. рис. 1.
Выше речь шла об учтенной миграции, однако значительная часть миграционных потоков не охвачена статистическим учетом. Главным компонентом неучтенной миграции выступают потоки недокументированных (нелегальных) мигрантов. Учесть их по определению нельзя, но можно оценить истинный миграционный прирост на основании косвенных данных. Важную информацию для таких оценок дают переписи населения, однако они охватывают лишь часть нелегальных мигрантов.
Большой разрыв в уровне заработной платы между Россией и ее южными соседями в сочетании с возможностью легко обходить трудовое законодательство и наличием безвизового режима пересечения российских границ жителями стран СНГ (за исключением Грузии и Туркменистана) обусловливают большие потоки нелегальных мигрантов. Оценить их величину можно с помощью косвенных оценок численности находящихся в стране документированных и недокументированных мигрантов и ряда допущений. По оценкам на основе эмиграционной статистики стран-доноров , число иностранных работников, занятых в России более 6 месяцев в году, составляло в 2003-2004 гг. 3,7 млн. человек . По данным российской статистики, число трудовых мигрантов, легально работавших в России, составляло около 400 тыс. человек, то есть в 9 раз меньше. По оценкам Ж.А. Зайончковской, соотношение нерегулируемой и регулируемой трудовой миграции в начале 2000-х годов было примерно таким же . К 2008 г. доля регулируемой (учтенной) миграции в трудовой иммиграции увеличилась до 35-40%, главным образом вследствие либерализации правил регистрации. Если принять верхнюю границу этой оценки, то общий миграционный прирост в 2008 г. составил не менее 450 тыс. человек, то есть находился на среднем уровне за 1992-2002 гг., по данным переписи населения 2002 г.
Рост учтенной иммиграции в 2000-е годы обеспечили в основном мужчины и женщины наиболее трудоспособного возраста - от 20 до 39 лет (см. рис. 4), доля которых в потоке прибывших в Россию возросла с 36% в 2001 г. до 52% в 2008 г. В то же время доля детей до 15 лет монотонно снижалась - с 14 до 9%. Это свидетельствует о растущем преобладании трудовой миграции. Гендерный состав прибывающих сбалансирован при слабой тенденции к росту доли мужчин, что соответствует потребностям российской экономики. По нынешней половозрастной структуре иммиграционных потоков Россия близка к таким странам масштабной иммиграции, как Великобритания и США. Из этого следует, что целесообразно использовать эту структуру при разработке миграционной гипотезы с учетом постепенности и однонаправленности структурных сдвигов.

Рисунок 4. Прибывшие в Россию в 2001 - 2008 гг., укрупненные возрастные группы (тыс. человек в год)
Источник: Численность и миграция населения Российской Федерации в 2008 году: стат. бюллетень / Федеральная служба государственной статистики. М., 2009.
В России половозрастная структура потоков выезжающих из страны близка к структуре встречных потоков, что также свидетельствует о преимущественно трудовом характере международной миграции. Доля детей тоже сократилась (до 10%), однако удельный вес возрастной группы 20-39 лет стабилен (40%) и поэтому стал меньше, чем среди въезжающих. Доля женщин среди эмигрантов (53-54%) выше, чем в иммиграционных потоках.
Гипотезы демографического прогноза для России
Центральная гипотеза миграционного прироста населения России исходит из показателя второй половины 2000-х годов - 450 тыс. человек в год. В демографические прогнозы ООН 2006 и 2008 гг. заложен постоянный миграционный прирост на уровне 50 тыс. человек в год. Разброс вариантов миграционного прироста, использованных в совокупности демографических прогнозов, которые подготовили российские специалисты в 2003 г. , составляет в зависимости от прогнозного периода 19-105 тыс. человек. Разрыв между нашей и этими гипотезами обусловлен двумя факторами: мы смогли учесть резкий перелом тренда регулируемой иммиграции во второй половине 2000-х годов, а также нелегальную миграцию, которую в других гипотезах игнорируют.
Не исключено, что наша оценка нынешнего миграционного прироста несколько завышена. Однако для центральной миграционной гипотезы такой объем ежегодного прироста представляется приемлемым. Действительно, при дальнейшей либерализации иммиграционных правил не только большинство прибытий в страну станут легальными и учтенными, но и миграционная привлекательность России возрастет.
Есть основания полагать, что сформировавшиеся факторы миграционного притяжения России носят долговременный характер. Достаточный для формирования миграционных потоков разрыв в уровне жизни между Россией и ее южными соседями, откуда приезжают большинство мигрантов, сохранится в течение длительного периода. При этом конкретные источники миграционных потоков могут измениться.
В Китае вследствие высоких темпов экономического роста повышается уровень жизни населения. Пока еще душевой доход в стране отстает от российского в разы, но эта ситуация вряд ли сохранится надолго. На фоне российской ксенофобии, особенно по отношению к китайцам, сокращение этого разрыва уменьшит для них миграционную привлекательность России. Установки жителей северных районов Китая на эмиграцию в Россию уже стали намного слабее, чем в 1990-е годы. Есть еще один мощный долгосрочный демографический фактор, который пока не проявился в национальном масштабе, но способен через 10-20 лет резко сократить эмиграционный потенциал Китая. Шанхай и ряд других динамично развивающихся городов востока страны уже начали испытывать дефицит трудовых ресурсов. Постепенно одна за другой провинции Китая вступят в режим суженного воспроизводства населения трудоспособного возраста, а после 2030 г. Китай войдет в стадию депопуляции.
Улучшение экономической ситуации в странах СНГ, в первую очередь в Казахстане или демографически неблагополучной Украине, ослабит силы выталкивания и приведет к сокращению иммиграционного притока в Россию. В государствах южного региона СНГ миграционный потенциал ограничен небольшой численностью их населения. Не исключено, что усилится приток мигрантов из таких трудоизбыточных нетрадиционных источников иммиграции, как Афганистан, Иран и даже более отдаленные азиатские страны.
Вместе с тем нельзя исключать снижения барьеров на пути трудовой миграции из России в Евросоюз. В некоторых восточных странах ЕС, начавших испытывать демографически детерминированный дефицит трудовых ресурсов, уже звучат призывы к массовому импорту трудовых ресурсов из России, Украины и Белоруссии. Более высокие зарплаты надолго останутся фактором миграционной притягательности Евросоюза для россиян, если, конечно, не будут реализованы чаяния определенных сил перекрыть их отток из страны. Здесь предполагается, что большая интеграция России в европейское миграционное пространство обернется дополнительной трудовой эмиграцией 100 тыс. человек в год.
Рост эмиграции соответствовал бы гипотезе об "исправлении" миграционного баланса России, который сейчас сильно перекошен в сторону иммиграции. Результирующий гипотетический миграционный прирост составит 350 тыс. человек в год, как и в 2000 г., по данным переписи 2002 г. Эта гипотеза соответствует среднему варианту миграционного прогноза, разработанного Институтом демографии ГУ-ВШЭ в 2009 г. В отличие от него, предусматривающего увеличение миграционного прироста с 250 тыс. человек в 2009 г. до 400 тыс. человек в год в 2032 - 2039 гг. и последующее снижение до 350 тыс. к 2050 г., мы предполагаем стабильный уровень 350 тыс. человек в год на протяжении всего прогнозного периода. Это представляется более логичным, поскольку выбранный нами уровень включает оценки нелегальной иммиграции, а прогноз Института демографии принимает за точку отсчета только учтенный миграционный прирост. Заметим, что поскольку мы совместили предположения о сохранении иммиграции на нынешнем уровне и о росте эмиграции под влиянием лишь намечающихся факторов, наша нетто-миграционная гипотеза скорее консервативна.
Росстат располагает информацией о половозрастной структуре только учтенных миграционных потоков. Структура нелегальной иммиграции, конечно, иная, но мы предполагаем, что в будущем всю нелегальную миграцию заместит легальная. Если предположение об увеличении трудовой эмиграции в Евросоюз подтвердится, то возрастная структура выбывающих может измениться, причем в основном за счет опережающего оттока молодых трудоспособных контингентов. Так как возрастные структуры встречных потоков миграции различаются главным образом по удельному весу 20-39-летних, можно предположить, что резкое увеличение трудовой эмиграции в ЕС будет сопровождаться ростом доли молодых контингентов, в результате возрастные структуры встречных потоков станут похожи. Следовательно, в России возрастная структура гипотетического миграционного прироста (см. рис. 5) сблизится с возрастной структурой иммиграции, что позволяет заложить последнюю в миграционную гипотезу. Поскольку половозрастная структура иммиграции изменяется медленно и плавно, оправданно использовать наиболее свежие данные за 2008 г. Такой подход представляется более логичным и адекватным требованиям демографического прогнозирования, чем фиксирование для длительного интервала пусть, возможно, реально наблюдавшейся, но единичной и потому случайной возрастной структуры нетто-миграции, как в демографических прогнозах ООН.

Рисунок 5. Гипотетическая половозрастная структура миграционного прироста населения России (350 тыс. человек в год)
Источник: см. рис. 4.
Даже в условиях значительной нетто-миграции естественное воспроизводство в большой, если не в решающей, степени определяет динамику населения и сдвиги в его возрастной структуре. Поэтому правильно оценить демографические последствия внешней миграции можно, комбинируя различные миграционные гипотезы с гипотезами в отношении рождаемости и смертности.
Мы приняли четыре миграционных варианта прогноза. Нулевой вариант не обязательно означает закрытие страны для внешней миграции; для его реализации достаточно, чтобы эмиграция полностью "нейтрализовала" иммиграцию. Для сравнения приведем результаты прогноза ООН, в котором предполагается, что нетто-миграция сокращается со 193 тыс. человек в год в 2000-2005 гг. (заниженного, как показано выше, уровня) до 50 тыс. человек в год в следующие пять лет, а затем стабилизируется. В центральном варианте нашего прогноза нетто-миграция сохраняется на уровне 350 тыс. человек в год.
Резкое обострение депопуляции, или демографически детерминированного дефицита трудовых ресурсов, может сделать привлекательной компенсацию убыли населения иммиграцией. "Замещающие" варианты принципиально отличаются от остальных, так как нетто-миграция оказывается не предпосылкой, а одним из результатов прогноза. Мы определяем замещающую миграцию как постоянный объем нетто-миграции , необходимый для достижения некоторой численности населения страны к определенному сроку. Этой планкой будем считать пик 148,7 млн. человек, достигнутый в 1993 г. Впоследствии население России стало убывать и к 2010 г. сократилось на 5% - до 140,7 млн. человек. При выборе горизонта прогноза логические критерии отсутствуют: мы выбрали 2020 г., потому что 10 лет - достаточно продолжительный и вместе с тем обозримый период, с которым обычно связано представление о долгосрочной политике. Мы предполагаем, что и после 2020 г. миграция, позволившая восстановить численность населения страны, сохранится на неизменном уровне.
Миграционные варианты комбинируются с вариантами динамики рождаемости, заимствованными из демографического прогноза ООН. В соответствии с его средним вариантом предполагается плавное увеличение рождаемости, при котором ее суммарный коэффициент, возрастая на 0,01 ребенка на женщину в год, увеличится с нынешних 1,5 до 1,8 ребенка на женщину в 2045 г.
Это предположение может показаться слишком скромным, поскольку в России суммарный коэффициент рождаемости всего за четыре года вырос на 0,2 ребенка на женщину (с 1,3 в 2005 г. до 1,5 в 2009 г. ). Однако вероятно, что на самом деле произошел не рост рождаемости в смысле ожидаемого репродуктивного поведения женщин, а временное отклонение от тренда суммарного коэффициента рождаемости в результате сдвига графика рождений к молодым возрастам. Этому способствовала очередная волна демографической политики, и прежде всего важная новация - введение так называемого "материнского капитала", размер которого в 1,5 раза превышает величину средней заработной платы за год, а для многих социальных групп и регионов - еще больше.
Неизвестно, в какой мере этот капитал увеличит желательное число детей, но он воздействовал на график рождений, так как многие супружеские пары и незамужние женщины захотели родить первого или очередного ребенка раньше, чтобы максимизировать вероятность получения доступа к этому значительному ресурсу. В результате число рождений, при других условиях "растянутое" во времени и по возрастным группам женского населения, концентрируется в некоторых группах за счет других и сжимается во времени. Позднее, причем непременно и весьма скоро, произойдет компенсация.
Вместе с тем в России в посткоммунистический период начался типичный для всех развитых стран процесс откладывания рождений на более позднее время и соответственно на старшие возраста. Страна, ранее характеризовавшаяся хрестоматийно "молодой" рождаемостью, стала подтягиваться к западным образцам. Перестройка графика рождений в сторону старших возрастов понижает суммарный коэффициент рождаемости, но после ее прекращения он опять повышается .
Поэтому вряд ли можно рассчитывать на продолжение стремительного роста суммарного коэффициента рождаемости, структурные характеристики которого весьма устойчивы . Более того, не исключено его снижение до рекордно низких уровней первой половины 2000-х годов. Это может произойти по двум причинам: во-первых, прекращение аномального омоложения рождаемости и возобновление нормальной тенденции ее старения арифметически понизят суммарный коэффициент; во-вторых, в силу бюджетных ограничений обязательства государства по дорогостоящей демографической политике будут уменьшаться. Нигде и никому не удавалось с помощью государственной политики поднять рождаемость до уровня простого воспроизводства населения.
Таким образом, предположение о медленном росте рождаемости в странах с таким низким показателем, как в России, Италии, Германии и многих других, можно считать оптимистичным, ибо даже такой рост не гарантирован. Оно оптимистично и относительно конечного показателя. Хотя он и ниже уровня простого воспроизводства населения, но близок к нынешнему французскому, который удовлетворяет общество, имеющее развитую систему поддержки семей и более чем вековую традицию общественного и государственного внимания к демографическим вопросам.
Вместе с тем нельзя исключать, что Россия повторит путь стран, где в результате снижения рождаемости женщины имели в среднем лишь одного ребенка. Поскольку ниже такого уровня рождаемость нигде не опускалась, в низком варианте прогноза мы предполагаем дальнейшее снижение рождаемости в течение 15 лет, после чего суммарный коэффициент, достигнув 1,1 ребенка на женщину, начнет расти и выйдет на уровень 2005-2010 гг. к концу прогнозного периода. Отметим, что центральные гипотезы рождаемости демографических прогнозов Росстата ближе к низкому, чем к среднему, варианту прогноза ООН. В результате численность населения страны в середине столетия составит 100 млн. человек, а по среднему варианту прогноза ООН - на 20% больше.
В высоком варианте прогноза предполагается, что коэффициент суммарной рождаемости постепенно вырастет на 3 / 4 по сравнению с нынешним уровнем - до 2,3 ребенка на женщину в 2040-2050 гг., что существенно выше уровня простого воспроизводства. И для России, и для других стран это означало бы радикальный перелом долговременного тренда, причем наши знания детерминант и механизмов репродуктивного поведения дают основания считать, что в современных обществах отсутствуют соответствующие факторы и для такого перелома нужны глубинные социальные трансформации.
Все миграционные варианты, кроме компенсаторных, комбинированы со всеми вариантами динамики рождаемости. В компенсаторном ряду каждому варианту рождаемости свойствен свой уровень нетто-миграции. Прогнозы с нетто-иммиграцией 50 тыс. человек в год, а также результат расчета по гипотезе нулевой миграции в сочетании со средней рождаемостью заимствованы из демографического прогноза ООН 2008 г.
Демографические прогнозы обычно построены на предположении о более быстром снижении смертности в России, чем в других развитых странах, поскольку она сильно отстала по этому показателю. Предполагается, что продолжительность жизни женщин вырастет с 74 до 79 лет, а мужчин - с 60 до 70 лет, что, впрочем, заметно ниже уровня, уже достигнутого в ряде стран. Хотя существуют демографические прогнозы для России с различными вариантами динамики смертности, мы ограничимся характеристиками естественного воспроизводства, заданными в прогнозе ООН, который одновариантен в отношении смертности. Таким образом, сформулированы 12 гипотез миграционного прогноза для России (см. табл. 1).
Таблица 1. Гипотезы миграционного прогноза для России
Результаты демографического прогноза
Наше семейство прогнозов позволяет представить результаты альтернативных траекторий демографической динамики и сопоставить влияние на нее уровня рождаемости и объема международной миграции. Хотя динамика отдельных возрастных групп и изменение половозрастной структуры населения имеют не меньшее значение, чем тренды его численности, и не сводятся к ним, здесь мы ограничимся населением в целом.
На рисунке 6 представлены результаты прогноза. Отметим, что мы не случайно используем среднегодовые объемы потоков нетто-миграции. Наряду с нулевой миграцией, гипотезой ООН (50 тыс. нетто-мигрантов в год) и обоснованной нами выше центральной прогнозной гипотезой (350 тыс.) в расчетах использованы еще два варианта. Это нетто-миграция на уровне 900 тыс. человек в год (на протяжении всего периода 2010-2050 гг.) и 1450 тыс., необходимых для восстановления численности населения к 2020 г. при соответственно средней и низкой рождаемости. При высокой рождаемости численность населения восстановилась бы без всякой миграции, точнее, при нулевой нетто-миграции. Поскольку нетто-миграция 50 тыс. человек в год оказывает слабое воздействие на динамику населения, соответствующие функции на рисунке не представлены.
Воздействие рождаемости на динамику населения. Если тренды суммарного коэффициента рождаемости в будущем разойдутся так, что к концу прогнозного периода разница достигнет одного ребенка на женщину, численность населения будет различаться на 50 млн. человек независимо от того, будет нетто-миграция нулевой (см. рис. 6а) или сохранится на уровне 350 тыс. в год (см. рис. 66). При нулевой нетто-миграции и рождаемости, сначала снижающейся, а затем повышающейся до нынешнего уровня, население сократится до 100 млн, то есть почти в 1,5 раза, а при высоком тренде рождаемости численность населения может восстановиться в течение 10 лет и сохраняться на этом уровне в дальнейшем. При низкой рождаемости нетто-миграция порядка 350 тыс. человек в год не сможет предотвратить значительную (почти на 1 / 3) депопуляцию, а при высокой рождаемости численность населения страны увеличится на 10%.

Рисунок 6. Прогноз численности населения России (тыс. человек)
Демографические последствия международной миграции. Влияние миграции на динамику населения тоже велико, но близко к воздействию тренда рождаемости только при очень больших объемах нетто-миграции. Так, сочетание среднего тренда рождаемости с нетто-миграцией 350 тыс. человек (см. рис. 6в), которую можно считать центральной гипотезой прогноза, лишь затормозит депопуляцию, но не прекратит ее. Нетто-миграция на уровне 900 тыс. человек в год, что почти втрое больше, чем в центральной гипотезе, и примерно соответствует легальной иммиграции в США, обеспечила бы восстановление численности населения страны с последующим медленным ростом.
Результаты экстремальных гипотез (см. рис. 6г). Нетто-миграция в объеме порядка 1,5 млн. человек компенсирует низкую рождаемость и даже приведет к середине столетия к 5-процентному росту населения, а высокая рождаемость в сочетании с нулевой нетто-миграцией определит стабилизацию населения на более низком уровне. Наконец, если бы рождаемость следовала высокой траектории и нетто-миграция в страну составляла 1450 тыс. человек в год, то к середине столетия население России выросло бы до 189 млн. человек, но при сочетании противоположных вариантов оно было бы почти вдвое меньше.
Из многовариантного демографического прогноза можно сделать ряд выводов. Во-первых, для демографического противодействия депопуляции требуется очень большое - в разы - увеличение иммиграции. Ее компенсаторная роль в будущем представляется особенно большой, так как на быстрое и значительное увеличение рождаемости рассчитывать нельзя. Из этого следует, что нужно отказаться от отношения к иммигрантам как к объекту сверхэксплуатации и жесткого административного регулирования. Разумно признать, что иммиграция - это стратегический ресурс страны, с которым следует обращаться бережно. В перспективе надо расширить поле действия рыночных механизмов при определении объемов иммиграции и требований к иммигрантам и одновременно переходить к мягкому регулированию их потоков, условий труда и жизни. При этом самое главное - найти способы взаимной социальной адаптации россиян и иммигрантов, интеграции последних в российское общество на правах его полноценных членов. Во-вторых, важно поддерживать постепенный рост рождаемости, хотя его воздействие на численность населения невелико. В-третьих, нельзя рассчитывать на высокие темпы роста населения, даже если удастся прекратить его сокращение. В-четвертых, весьма вероятно продолжение депопуляции. Поэтому нужны меры по адаптации общества и экономики к этому новому состоянию.
С. ИВАНОВ, кандидат
экономических наук, сотрудник по вопросам народонаселения Департамента
экономических и социальных вопросов Секретариата ООН (Нью-Йорк).
Мнение автора не обязательно совпадает с позицией Организации
Объединенных Наций.
Нетто-миграция представляет
собой разницу между числом иммигрантов (прибывших в страну) и числом
эмигрантов (выбывших из страны). Как синонимы нетто-миграции используются
термины "миграционный прирост", "сальдо миграции"
и "механический прирост населения". Нетто-миграция может
иметь как положительный, так и отрицательный знак.
Ivanov S.
Demographic and Economic Factors of Labour Supply: Long-term Projections
and Policy Options for France, Germany, Italy and the United Kingdom
// Vienna Yearbook of Population Research. Vienna, 2009. P. 83-112.
В принципе замещающую
миграцию можно рассчитать для противоположного варианта демографической
динамики как объем миграционной убыли, необходимый для предотвращения
прироста населения (трудовых ресурсов) при определенных допущениях
относительно естественного воспроизводства. Однако, по нашим сведениям,
такую задачу эксперты не рассматривали.
The Demographic
Characteristics of Immigrant Populations / W. Haug, P. Compton,
Y. Courbage (eds.). Strasbourg: Council of Europe Publishers. Population
Studies. 2002. No 38; Toulemon L.
La fécondité
des immigrées: nouvelles données, nouvell approche //
Population et Sociétés. 2004. No 400.
Tolts M.
Post-Soviet Vital Crises, Aliya and Jewish Emigration / Proceedings
of the International Conference on Jewish Demography, Nov. 30 -Dec.
3, 2002, Jerusalem, Israel.
Мукомель В.
Экономика нелегальной миграции в России // Население и общество.
2005. N 92. www..pdf.
В этой оценке использован
шестимесячный срок пребывания в России как критерий принадлежности
к группе иммигрантов (в отличие от временно находящихся на территории
страны иностранцев). Он рекомендован Статистическим отделом ООН
и широко применяется в международной практике. Поскольку в источниках
использована другая классификация, соответствующие данные приведены
к шестимесячному сроку на основе допущения о равномерности распределения
по месяцам. Суммарная оценка складывается из 2,2 млн. человек, занятых
не менее 10 месяцев в году, и 4 / 5 от числа
занятых от 5 до 9 месяцев (1,95 млн. человек); 400 тыс. человек
- усредненная оценка за 2003 - 2004 гг. (см.: Доклад о развитии
человеческого потенциала в Российской Федерации 2009: Энергетика
и устойчивое развитие / Под ред. С. Н. Бобылева. М., 2010).
См.: Зайончковская
Ж. А.
Иммиграция: путь к спасению или Троянский конь? // Доклад
о развитии человеческого потенциала в Российской Федерации 2008:
Россия перед лицом демографических вызовов / Под ред. А.Г. Вишневского
и С.Н. Бобылева. М., 2009. Государственная миграционная служба приводит
в разы большую оценку общей численности мигрантов (10-12 млн. человек),
но вместе с тем полагает, что доля легальных мигрантов выше и составляет
от 1 / 4 до 1 / 3 их совокупной
численности.
Вишневский
А. Г., Андреев Е. М., Трейвиш А. И.
Перспективы развития России:
роль демографического фактора. М.: Институт экономики переходного
периода, 2003.
Годовые колебания
возрастной структуры предопределяют годовые колебания нетто-миграции,
необходимой для компенсации естественной убыли населения. Отсутствие
автоматизированного алгоритма расчета компенсаторных вариантов и
большая трудоемкость ручных итераций обусловили выбор калибровки
прогноза с пятилетним шагом. Выборочные проверки показали, что отклонения
не превышают 0,1%.
Суммарный коэффициент
рождаемости. Регламентная таблица / Росстат. 2011. 9 февр. www.gks.ru/free_doc/new_site/population/demo/demo27.xls.
См.: Goldstein
J.R., Sobotka T., Jasilioniené A.
The End of "Lowest-Low"
Fertility? / Population Association of America Annual Meeting, Detroit,
2009, 30 April; Ivanov S., Kandiah V.
Age Patterns of Fertility
// Encyclopedia of Population / P. Demeny, G. McNicoll (eds.). N.Y.:
Thomson Gale, 2003. P. 403 - 405; Sobotka T.
Tempo-Quantum
and Period-Cohort Interplay in Fertility Changes in Europe. Evidence
from the Czech Republic, Italy, the Netherlands and Sweden // Demographic
Research. 2003. Vol. 8, No 6. P. 151 - 214. www.demographic-research.org.
Доклад о развитии
человеческого потенциала в Российской Федерации 2008: Россия перед
лицом демографических вызовов.
Поствоенная Европа столкнулась с социально-экономическими вызовами собственной трансформации из региона активной эмиграции в регион притяжения иностранной рабочей силы глобального значения. Этот продолжительный процесс затрагивал регионы европейского континента неравномерно, в различные исторические периоды и фазы экономического развития. Изначальным миграционным трансформациям подверглись страны Западной Европы, за ними последовали страны Средиземноморья, государства Центральной Европы. В молодых же государствах-членах Европейского Союза – представителях Восточноевропейского суб-региона, трансформация миграционной динамики – актуальная проблема современности, активно воздействующая как на продолжение миграционных трендов внутри самой Европы, так и в масштабах всей мировой экономики. В исследовании предпринята попытка отследить динамику трудовой миграции в условиях экономического прогресса стран ЕС, выделить закономерности и условия роста экономического значения иностранной рабочей силы в регионе.
Европейский Союз
миграционная политика
народнохозяйственная система
трудовая имиграция
Международная трудовая миграция
1. EVROPEAN UNION [Электронный ресурс]. Режим доступа http://europa.eu/ (дата обращения 01.10.2014).
2. Институт демографии Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» № 619-62017-30 ноября 2014 [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.demoscope.ru/weekly/2014/0619/barom02.php (дата обращения 06.12.2014).
3. EVROPA европейский портал [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.evropa.org.ua/eu/3.htm (дата обращения 20.10.2014).
4. Рынки труда и возможности трудоустройства [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.etf.europa.eu/webatt.nsf/0 (дата обращения 20.10.2014).
5. Евразийская экономическая комиссия [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.eurasiancommission.org/ru/Pages/default.aspx (дата обращения 09.10.2014).
Последние два десятилетия, ознаменовавшиеся крушением «железного занавеса», расширением состава Европейского Союза, переходом на более высокие уровни внутриконтинентальной интеграции тестировали и продолжают проверять на прочность и эффективность миграционные режимы государств Старого Света, практически непрерывно формулируя комплексы новых проблем экономического, социального, культурного и политического характеров.
Несмотря на обострившиеся противоречия внутри Европейского Союза, связанные со стратегическими ориентирами и тактическими мерами реализации миграционной политики, внутреннее миграционное пространство ЕС, равно как и сформированную национальную и интернациональную инфраструктуры разработки и реализации миграционной политики в регионе, представляется уникальным, не имеющим аналогов в современной и исторической мировой практике. В связи с чем проблематика исследования закономерностей процессов международной трудовой миграции в Европейском Союзе , социальных, экономических, культурных трансформаций, вызванных как переориентацией региональных миграционных потоков во второй половине ХХ века, так и расширением состава ЕС, представляется актуальной и своевременной как для европейских стран, активно модернизирующих свою миграционную политику, так и для России, уже столкнувшейся с острой необходимостью формирования единой миграционной стратегии активно интегрирующихся стран ЕврАзЭС, Таможенного Союза.
Целью проведенного исследования было определение основных закономерностей миграционной динамики в странах ЕС-28 на основе оценки макроэкономического влияния имиграции в статике и динамике (2000-2013 гг.).
Для проведения исследования была использована статистическая информация государств Европейского Союза (в том числе и Национальной статистики отдельных стран до момента их вступления в ЕС).
Оценка экономической роли трудовой имиграции в народнохозяйственной системе страны возможно с позиций анализа традиционных макроэкономических (динамика ВВП, демографические характеристики населения, динамика трудовой миграции в стране, показатели экономического роста и так далее) и рассчетных (производительность труда, динамика «выбытия» работоспособного населения, потери ВВП в случае отсутствия трудовой имиграции и так далее). В дальнейшем сопоставляя традиционные и рассчетные макроэкономические показатели, возможно объективно определить итоговый показатель экономической роли трудовой имиграции в стране.
Результаты проведенной оценки демонстрируют, что максимальным усредненным показателем экономического значения трудовой миграции обладают экономически развитые государства «старой» Европы, в то время как экономическая роль трудовой миграции в странах Восточной Европы в целом остается наименьшей.
|
|
|
|
Северная Европа |
Центральная Европа |
|
|
|
|
Южная Европа |
Восточная Европа |
Рисунок 1. Динамика изменения показателей экономического значения трудовой имиграции в группах стран Европы
Рассматривая динамику экономической зависимости групп стран ЕС (в исследовании выделены государства Северной, Центральной, Южной и Восточной Европы) , в период 2000-2013 гг. (рис. 1) можно выделить, что в государствах Северной Европы развивается в возрастающем тренде по N-образной траектории. В странах Южной и Центральной Европы также наблюдается прогрессирующий по W-образной траектории тренд. Тогда как в государствах Восточной Европы единообразие отсутствует как с позиции миграционной динамики, так и направленности группового тренда. Стоит отдельно отметить, что согласно проведенному исследованию, факт вступления государств Восточной Европы в ЕС не имел существенного отражения в критериях развития их экономической зависимости от трудовой миграции.
С целью определения закономерностей и основных детерминант динамики экономической роли трудовой миграции в странах Европейского Союза, можно проанализировать изменение основных макроэкономических критериев стран ЕС в период с 2000 по 2013 г. В качестве таковых критериев были определены - производительность труда в национальной экономической системе стран ЕС (которая в рамках исследования определялась через соотношение национального ВВП (ППС) к численности занятого населения), динамика роста национального ВВП и официальной безработицы в странах исследуемого региона. Для демонстрации внутрирегиональных различий можно аггрегировать показатели в зависимости от географической локализации исследуемых государств Европы.
Графики изменения производительности труда в странах Европейского Союза, классифицированных на 4 группы (страны Северной, Центральной, Южной и Восточной Европы), приведены на рис. 2.
Как видно из рис. 2, во всех государствах ЕС производительность труда росла вплоть до 2008 года. Наиболее стремительно производительность труда росла в странах Восточной Европы, что логично объясняется низкими стартовыми условиями.
Cтоит отметить, что вступление в ЕС (2004 год) для показателей производительности труда в анализируемых странах (за исключением Хорватии, вступившей в ЕС позднее) не оказалось стимулирующим условием - рост производительности труда сохранил высокую динамику, свойственную и для начала 2000-х годов. Производительность труда в странах Северной Европы росла наиболее плавно, хотя и максимально равномерно.
С 2008 года наблюдается существенное падение производительности труда во всех без исключения странах ЕС. В одних из них падение было резким и продолжается до сих пор (Нидерланды, Чехия, Венгрия, Португалия, Греция), в других - падение 2008 года носило характер корректировки (Финляндия, Великобритания, Франция, Германия, Кипр, Испания), в третьих - временного «отката» (Норвегия, Хорватия, Латвия). Но в целом тренд динамики производительности труда в группах стран Европейского Союза выступает общим и очевидным.
|
|
|
|
Северная Европа |
Центральная Европа |
|
|
|
|
Южная Европа |
Восточная Европа |
Рисунок 2. Динамика производительности труда в группах стран ЕС, долл. США
Рассматривая динамику безработицы в группах стран Европейского Союза (рис. 3), нельзя уловить никаких типичных даже для стран единой группы трендов и закономерностей. Динамика безработицы может быть не только разной степени интенсивности, но и вообще разнонаправленной в странах одной анализируемой группы в аналогичный исторический период. Однако заслуживает внимания тот факт, что во всех без исключения странах Европейского Союза именно 2008 год стал годом минимальной безработицы (в период 2002-2013 гг.)!
И именно 2008 год был годом максимальной производительности труда для стран Европейского Союза . Этот факт дает возможность определить прямую взаимосвязь между показателями национальной безработицы и национальной производительности труда в странах ЕС, подтверждая, что только при достижении минимальной безработицы возможен максимальный рост (и, как следствие, достижение максимальных показателей) производительности труда в стране!
Стоит уделить больше внимания исследованию практического и фундаментального значения этого результата статистического исследования. С сугубо экономической точки зрения данное утверждение представляется нелогичным - высокий показатель производительности труда сокращает потребность экономической системы в рабочей силе, а, следовательно, способен вызвать рост безработицы в стране!
С другой стороны, более социальной, психологической рост производительности труда в стране можно обосновать и ростом качества жизни (включая уровень социальной защищенности, в том числе и качество государственных программ поддержки занятости), основным показателем которой, в том числе, и выступает уровень безработицы в стране.
Можно, основываясь на логике экономических закономерностей, определить характер взаимосвязи двух показателей (существование этой взаимосвязи статистически аргументировано).
Рост производительности труда в экономической системе (несмотря на кажущуюся позитивность этого тренда) будет иметь положительные последствия для всей системы только в случае одновременного снижения безработицы. В противном случае (даже при сохранении безработицы на прежнем уровне) рост производительности труда скажется на росте потерь («упущенной выгоды») экономической системы в целом.
Таким образом, значение безработицы как показателя социально-экономического развития системы и точки приоритетного государственного воздействия (реализации государственной политики) многократно возрастает. Безработица превращается не только в фактор роста качества жизни и обеспечения социальной стабильности, но и критерий оптимизации динамики производительности труда, повышения ее экономической эффективности и результативности в современном мире.
Наконец, на рис. 4 продемонстрировано поведение ВВП стран Европейского Союза в период с 2000 по 2013 г.
|
|
|
|
Северная Европа |
Центральная Европа |
|
|
|
|
Южная Европа |
Восточная Европа |
Рисунок 3. Динамика безработицы в группах стран Европы, %
Несмотря на отсутствие явных общих трендов динамики роста ВВП, практически во всех странах Европы максимально успешным с точки зрения роста ВВП был 2006 год (кроме Бельгии, Кипра и Венгрии), а 2008 - наоборот, представляется как минимальный экстремум (в том числе и в отрицательной зоне системы координат), ниже достижений которого лишь антирекорды 2013 года (кроме Норвегии, Ирландии и Латвии).
|
|
|
|
Северная Европа |
Центральная Европа |
|
|
|
|
Южная Европа |
Восточная Европа |
Рисунок 4. Динамика роста ВВП в группах стран Европы, %
На основании исследования динамики четырех показателей - динамика ВВП, безработицы, производительности труда и экономического значения трудовой имиграции, можно построить следующую таблицу (таб. 1).
Таблица 1
Взаимосвязь показателей экономического развития стран ЕС в период 2000-2013 гг.
|
Страны Северной Европы |
||||||
|
Экономическое значение трудовой имиграции |
||||||
|
Уровень безработицы |
||||||
|
Производительность труда |
||||||
|
Страны Центральной Европы |
||||||
|
Экономическое значение трудовой имиграции |
||||||
|
Уровень безработицы |
||||||
|
Производительность труда |
||||||
|
Страны Южной Европы |
||||||
|
Экономическое значение трудовой имиграции |
||||||
|
Уровень безработицы |
||||||
|
Производительность труда |
||||||
|
Страны Восточной Европы |
||||||
|
Экономическое значение трудовой имиграции |
||||||
|
Уровень безработицы |
||||||
|
Производительность труда |
||||||
Анализ таб. 1 позволяет сделать вывод, что в зоне роста производительности труда показатели роста ВВП и экономического значения трудовой имиграции изменяются в прямой зависимости. В то же самое время показатели динамики ВВП и экономического значения трудовой миграции вступают в обратную зависимость в случае сокращения производительности труда в экономической системе. Схематично выведенную закономерность можно изобразить на графике (рис. 5).

Рисунок 5. Взаимозависимость показателей экономического развития стран Европы
Логично обосновать выявленные закономерности и взаимозависимости можно, исходя из того, что в условиях сокращения производительности труда падают ожидаемые доходы предпринимателей, при этом возрастает количество необходимого труда. Как уже было обосновано выше, падение производительности труда может спровоцировать рост безработицы в рамках экономической системы. В таких макроэкономических условиях рост ВВП возможен только за счет реализации политики сокращения издержек (в том числе и за счет экономии на рабочей силе), либо за счет активного заимствования на зарубежных рынках, либо за счет благоприятной конъюнктуры на определенных отраслевых рынках (например, на рынке природных ресурсов, которыми богато конкретное государство). Безусловно, ни одно из перечисленных условий не предполагает активизации трудовой имиграции - что и определяет снижение ее экономического значения в народнохозяйственной системе.
При ухудшении макроэкономической ситуации - падение ВВП в условиях падения производительности труда происходит реструктуривание рынка труда в пользу готовых к более дешевому труду иностранных мигрантов . В условиях неэффективного государственного регулирования миграционных отношений бизнес начинает активно стимулировать иностранную миграцию, замещая мигрантами местных рабочих, которым уже ничего не остается, кроме как стоять на бирже труда и пополнять армию безработных. К примеру, поток трудовых мигрантов в Испанию, Грецию, Италию из стран Ближнего Востока и Северной Африки постоянно растет, при том что экономическая ситуация в этих государствах близка к кризисной, а социальная (безработица в Южной Европе одна из самых высоких в мире!) - к протестной.
В благоприятных условиях роста производительности труда, усиленных ростом ВВП, зависимость от иностранной трудовой имиграции будет расти просто в силу нехватки внутреннего трудового ресурса развития (как уже было доказано выше, зачастую в условиях максимизации производительности труда резко падает безработица).
Таким образом, проведенное исследование статистической информации и трендов миграционной и макроэкономической динамики государств Европейского Союза (+ Турция) за период 2000-2013 гг. позволило сделать следующие выводы практического и теоретического свойств:
Сопоставление трендов развития производительности труда и уровня безработицы в странах ЕС позволяет сделать вывод, что историческим периодам максимальной производительности труда в экономической системе соответствуют исторические периоды минимальной безработицы в стране. На основании этого статистически доказанного факта можно сделать вывод о роли безработицы как фактора экономической эффективизации роста производительности труда в рамках всей народнохозяйственной системы, о необходимости концентрации государственной экономической политики на показателях безработицы, в том числе и при реализации хозяйственных стратегий интенсивного роста;
Сопоставление показателей безработицы, изменения ВВП, производительности труда и экономической роли трудовой имиграции позволили вывести ряд закономерностей, статистически обоснованных и логически доказанных. В частности, было сделано предположение, что в условиях растущей производительности труда экономическая роль трудовой миграции и динамика ВВП находятся в прямой зависимости. Тогда как в случае изменения динамики производительности труда на негативную до обратной изменяется взаимосвязь динамики ВВП и экономической роли трудовой имиграции. Это научно обосновывается анализом источников экономического роста (роста ВВП) в условиях сокращения или роста производительности труда и дальнейшим тестированием миграционного поведения населения в динамике развития приведенных факторов роста ВВП. Наконец, предложенные закономерности были подтверждены статистикой экономического развития стран ЕС в период с 2000 по 2013 г.
Значение выявленных закономерностей и трендов миграционной динамики в рамках Европейского Союза определяется возможностями использования предложенной методики в процессе планирования национальной (общеевропейской) миграционной политики, определения направлений приоритетного государственного регулирования трансграничного движения рабочей силы, инструментов формирования системы наднационального планирования и контроля трудовой имиграции.
Рецензенты:
Скорев М.М., д.э.н., профессор, ФГБОУ ВПО «Ростовский государственный университет путей сообщения», г. Ростов-на-Дону;
Кирищиева И.Р., д.э.н., профессор, ФГБОУ ВПО «Ростовский государственный университет путей сообщения», г. Ростов-на-Дону.
Библиографическая ссылка
Козлова Е.В. ДИНАМИКА МЕЖДУНАРОДНОЙ МИГРАЦИИ В УСЛОВИЯХ ЦИКЛИЧНОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА // Современные проблемы науки и образования. – 2014. – № 6.;URL: http://science-education.ru/ru/article/view?id=16796 (дата обращения: 30.10.2019). Предлагаем вашему вниманию журналы, издающиеся в издательстве «Академия Естествознания»
Что еще почитать
ПОСЛЕДНИЕ ЗАПИСИ
- Зачитываем предоплату частями: как быть с авансовым НДС Можно ли оплатить счет частично
- Дипломная работа: Взыскание дебиторской задолженности в сфере жилищно-коммунального хозяйства
- Как рассчитать премию для работника
- Секреты правильного выбора СРО арбитражных управляющих
- Справка об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов